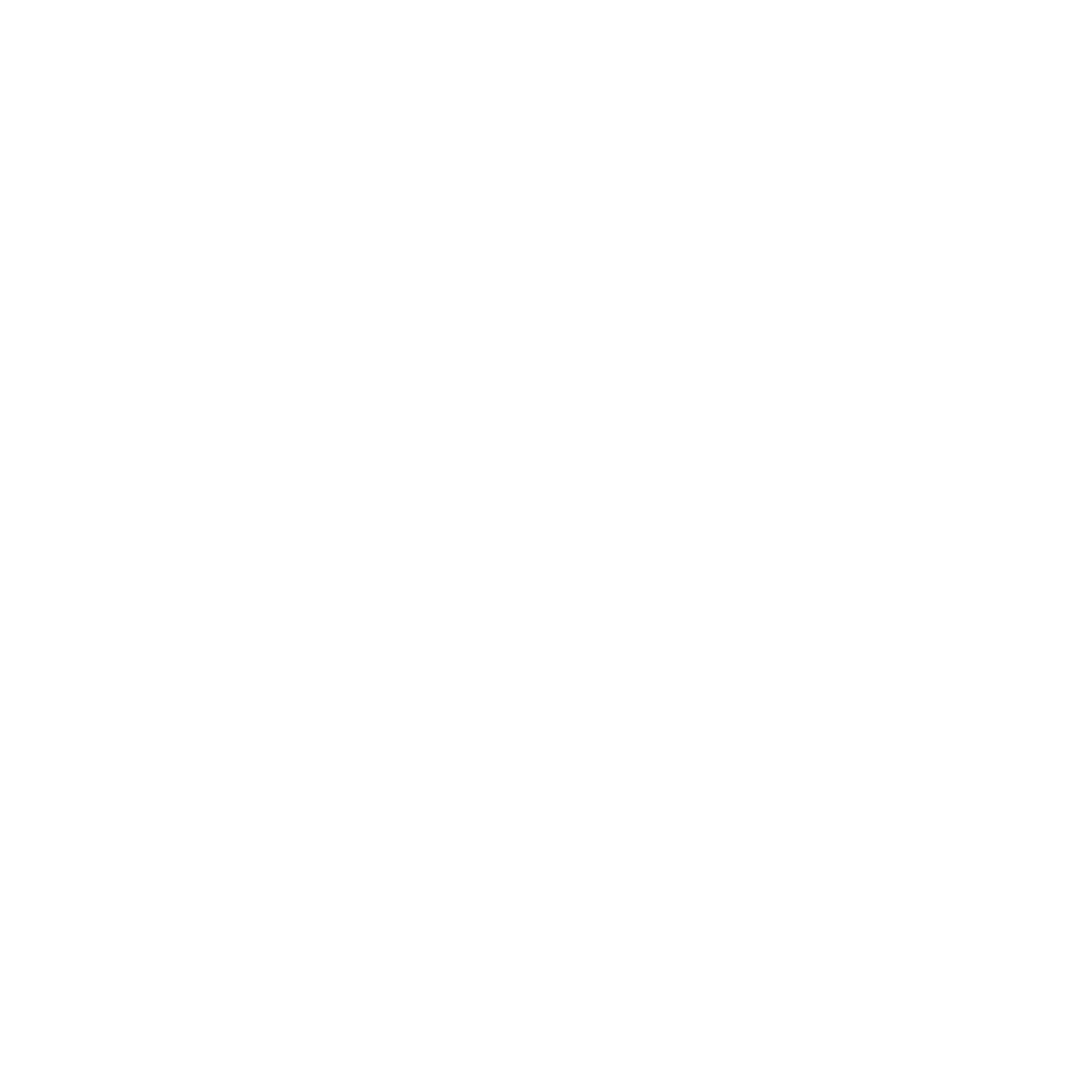
Актуальная радиохимия
О целях и задачах переработки ОЯТ, российских проектах ОДЦ ГХК и ОДЭК рассказывает научный руководитель — главный технолог объединенного проекта по разработке технологии переработки ОЯТ и обращения с РАО ПН «Прорыв», доктор химических наук Андрей Шадрин.
Когда в 1984 году я пришел в Радиевый институт, мне сказали: «Будешь заниматься замкнутым топливным циклом реакторов на быстрых нейтронах». То есть проблема обращения с ОЯТ и замыкания топливного цикла стояла уже тогда.
Практически весь мир принял отложенное решение для топлива. Частичное замыкание цикла сегодня умеют делать только Франция и Россия; Япония, Китай и Индия — в существенно меньших масштабах.
Во Франции из отработавшего топлива извлекают уран и плутоний, последний направляют в МОХ-топливо для реакторов на тепловых нейтронах. В России повторно используют уран, но тоже не весь, а только от переработки топлива ВВЭР‑440 и исследовательских реакторов. Так что промышленный опыт есть, а реального замыкания цикла, хотя бы в масштабах одной страны, пока не существует.
Из того, что сейчас создается в России, пожалуй, самое интересное — это ОДЦ Горно-химического комбината для переработки топлива ВВЭР‑1000. Во-первых, там впервые предпринята попытка использовать замкнутый водооборот, а во‑вторых, это завод третьего поколения.
Завод первого поколения — это, например, «Маяк». Здесь стояла задача выделить плутоний, в основном под оружейные технологии. Ни уменьшение воздействия на окружающую среду, ни снижение стоимости переработки не ставились как целевые задачи.
Второе поколение заводов — РТ‑2 — в России не построили. В Великобритании был построен завод Thorp, сейчас он остановлен. Во Франции есть два завода: UP‑2 и UP‑3 на мысе Ла Аг, связанные между собой, где была поставлена задача снизить воздействие на окружающую среду. Однако технология получилась достаточно дорогая, и из-за этого нет загрузки. Суммарная мощность этих заводов — 1400 тонн в год, но по факту больше 800 тонн заводы никогда не перерабатывали.
На ОДЦ ГХК предпринята попытка построить завод, который практически не воздействует на окружающую среду: у него почти нет газовых выбросов — они очищены до сбросовых норм; нет жидких отходов — они все тем или иным способом рециклированы; есть только твердые отходы, хранить которые гораздо безопаснее.
Экономический эффект был одной из основных целей, и пока он планируется очень приличный: снижение стоимости переработки килограмма топлива более чем в два раза по сравнению с известными методами. Пуск завода намечен после 2020 года, уже закончено строительство первой очереди — исследовательских камер.
Второй интересный проект — это опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК) с реактором БРЕСТ. Там предусмотрены модуль переработки и замыкание топливного цикла, все это рассчитано на быстрый реактор. Фактически это размещенный на одной площадке пристанционный ядерный топливный цикл: реактор, производство, фабрикация топлива, переработка. Волей-неволей всем участникам процесса нужно будет жить дружно и смотреть, что происходит у соседей.
Кроме того, будет использоваться смешанное уран-плутониевое нитридное топливо, и количество плутония там в 10−20 раз выше, чем в ОЯТ ВВЭР на ПО «Маяк», а это существенно.
В мире, пожалуй, нет таких крупных проектов на продвинутых стадиях, как ОДЦ ГХК и ОДЭК. Все остальное только в планах: французская Areva заявила, что они не собираются строить завод третьего поколения и перескочат на следующий этап. Это понятное решение: срок службы радиохимического комплекса 50 лет, завод они запустили в 1980—1990-х годах, и до 2040-го нет смысла им заниматься.
Для внедрения любого технологического новшества необходимо понимание целей, которых хочется достигнуть. Я могу сформулировать две глобальные цели.
Первая — это экономика проекта: если технология слишком дорогая, смысла в ней нет. Существуют и требования закона: подземное захоронение облученного топлива в России запрещено, его можно либо хранить, либо перерабатывать. Технологии хранения хорошо развиты. Получается, проблема заключается в области самого топливного цикла: что делать с выделенными продуктами?
Практически весь мир принял отложенное решение для топлива. Частичное замыкание цикла сегодня умеют делать только Франция и Россия; Япония, Китай и Индия — в существенно меньших масштабах.
Во Франции из отработавшего топлива извлекают уран и плутоний, последний направляют в МОХ-топливо для реакторов на тепловых нейтронах. В России повторно используют уран, но тоже не весь, а только от переработки топлива ВВЭР‑440 и исследовательских реакторов. Так что промышленный опыт есть, а реального замыкания цикла, хотя бы в масштабах одной страны, пока не существует.
Из того, что сейчас создается в России, пожалуй, самое интересное — это ОДЦ Горно-химического комбината для переработки топлива ВВЭР‑1000. Во-первых, там впервые предпринята попытка использовать замкнутый водооборот, а во‑вторых, это завод третьего поколения.
Завод первого поколения — это, например, «Маяк». Здесь стояла задача выделить плутоний, в основном под оружейные технологии. Ни уменьшение воздействия на окружающую среду, ни снижение стоимости переработки не ставились как целевые задачи.
Второе поколение заводов — РТ‑2 — в России не построили. В Великобритании был построен завод Thorp, сейчас он остановлен. Во Франции есть два завода: UP‑2 и UP‑3 на мысе Ла Аг, связанные между собой, где была поставлена задача снизить воздействие на окружающую среду. Однако технология получилась достаточно дорогая, и из-за этого нет загрузки. Суммарная мощность этих заводов — 1400 тонн в год, но по факту больше 800 тонн заводы никогда не перерабатывали.
На ОДЦ ГХК предпринята попытка построить завод, который практически не воздействует на окружающую среду: у него почти нет газовых выбросов — они очищены до сбросовых норм; нет жидких отходов — они все тем или иным способом рециклированы; есть только твердые отходы, хранить которые гораздо безопаснее.
Экономический эффект был одной из основных целей, и пока он планируется очень приличный: снижение стоимости переработки килограмма топлива более чем в два раза по сравнению с известными методами. Пуск завода намечен после 2020 года, уже закончено строительство первой очереди — исследовательских камер.
Второй интересный проект — это опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК) с реактором БРЕСТ. Там предусмотрены модуль переработки и замыкание топливного цикла, все это рассчитано на быстрый реактор. Фактически это размещенный на одной площадке пристанционный ядерный топливный цикл: реактор, производство, фабрикация топлива, переработка. Волей-неволей всем участникам процесса нужно будет жить дружно и смотреть, что происходит у соседей.
Кроме того, будет использоваться смешанное уран-плутониевое нитридное топливо, и количество плутония там в 10−20 раз выше, чем в ОЯТ ВВЭР на ПО «Маяк», а это существенно.
В мире, пожалуй, нет таких крупных проектов на продвинутых стадиях, как ОДЦ ГХК и ОДЭК. Все остальное только в планах: французская Areva заявила, что они не собираются строить завод третьего поколения и перескочат на следующий этап. Это понятное решение: срок службы радиохимического комплекса 50 лет, завод они запустили в 1980—1990-х годах, и до 2040-го нет смысла им заниматься.
Для внедрения любого технологического новшества необходимо понимание целей, которых хочется достигнуть. Я могу сформулировать две глобальные цели.
Первая — это экономика проекта: если технология слишком дорогая, смысла в ней нет. Существуют и требования закона: подземное захоронение облученного топлива в России запрещено, его можно либо хранить, либо перерабатывать. Технологии хранения хорошо развиты. Получается, проблема заключается в области самого топливного цикла: что делать с выделенными продуктами?
Биография
Андрей Шадрин родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил инженерно-физико-химический факультет Ленинградского технологического института им. Ленсовета (ЛТИ). Получил диплом инженера химика-технолога по специальности «Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов». Дипломную работу выполнял в Радиевом институте им. В. Г. Хлопина. Там же работал с 1984 по 2010 год. Прошел путь от старшего техника до директора отделения прикладной радиохимии. В августе 2010 года по собственному желанию перешел на работу в ОАО «ВНИИНМ им. А. А. Бочвара» на должность заместителя по науке директора Центра по обращению с РАО и ОЯТ и выводу из эксплуатации.
В Радиевом институте в 1991 и 2006 годах защитил диссертации на соискание степеней кандидата и доктора химических наук.
Основные области научных интересов: переработка облученного ядерного топлива реакторов на тепловых и быстрых нейтронах, фракционирование высокоактивных отходов, жидкостная и сверхкритическая экстракция.
Автор примерно 70 научных статей в реферируемых журналах, 18 патентов. Подготовил более 100 отчетов и более 80 докладов, которые были представлены на российских и международных конференциях.
В настоящее время занимает пост научного руководителя — главного технолога объединенного проекта по разработке базовых технологий переработки ОЯТ и обращения с РАО ПН «Прорыв».
В Радиевом институте в 1991 и 2006 годах защитил диссертации на соискание степеней кандидата и доктора химических наук.
Основные области научных интересов: переработка облученного ядерного топлива реакторов на тепловых и быстрых нейтронах, фракционирование высокоактивных отходов, жидкостная и сверхкритическая экстракция.
Автор примерно 70 научных статей в реферируемых журналах, 18 патентов. Подготовил более 100 отчетов и более 80 докладов, которые были представлены на российских и международных конференциях.
В настоящее время занимает пост научного руководителя — главного технолога объединенного проекта по разработке базовых технологий переработки ОЯТ и обращения с РАО ПН «Прорыв».
Если ни уран, ни плутоний не используются в полном объеме — зачем тогда перерабатывать топливо? Даже если объемы отходов уменьшатся, активность топлива останется прежней — и получится, что деньги, вложенные в переработку, себя не оправдали. Для экономического эффекта необходимо замкнуть топливный цикл: повторно использовать плутоний и, желательно, уран, то есть перейти с 235U на 238U и еще сделать что-то с малыми актинидами — америцием и кюрием.
Вторая цель — экология. Понятно, что соблюдение норм и правил невмешательства в экологическую среду — это требование к любому заводу. Но «Прорыв» поставил задачу на порядок выше: приблизиться к радиационно-экологическому эквивалентному захоронению. Что это значит? Мы добываем уран, имеющий, вместе с дочерними продуктами распада, некий объем активности, изготавливаем из него топливо, получаем энергию в реакторе, перерабатываем, получаем отходы — и активность этих отходов за определенное время (100 лет, 300 или 500 — но это должен быть срок, при котором можно технически гарантировать сохранность барьеров) не превысит того уровня, который был при добыче. Для этого нормы по потерям урана, плутония, америция и кюрия должны быть примерно в 10 раз жестче тех, которые установлены сейчас.
Очевидна необходимость новых решений. И если для повторного использования урана, плутония, нептуния уже существуют реальные гидрометаллургические производства, то разделение америция и кюрия на промышленном уровне не производится нигде, эта проблема решается пока только на уровне НИОКР. Конечно, эксперименты уже проводились: на проекте «Прорыв», например, из топлива было выделено 60 г америция, — но все-таки это еще не готовая к производству технология.
Давайте разберемся, зачем нужно разделять америций и кюрий.
Во-первых, проблема минорных актинидов не столько в их активности (у кюрия еще огромный нейтронный поток), сколько в том, что при радиоактивном распаде (а он длится около 200 лет для америция и 18 лет для кюрия) они переходят в нептуний и плутоний. А у этих элементов уже существенно больший период полураспада — миллионы лет, причем это наиболее опасные альфа-излучатели. Кроме того, америций и кюрий вносят большой вклад в тепловыделение самого ядерного топлива — если их вовлечь обратно, топливо будет достаточно горячим, обладая при этом высоким нейтронным потоком.
Вторая проблема минорных актинидов лежит исключительно в области химии. Америций и кюрий проявляют такие же химические свойства, как редкоземельные элементы, которых в топливе довольно много: это лантан, церий, неодим и другие. Если считать, что в ВВЭР-топливе 5 кг редких земель, то на их фоне — около 50 г америция, очень близкого к ним по свойствам. Их нужно разделить; это дорогая технология.
Из-за того, что америций с кюрием достаточно высокоактивны, при любых используемых методах радиационная нагрузка останется высокой. Пока реальное развитие получил только гидрометаллургический метод. Самый лучший процесс был на органическом соединении BТР, однако, когда стали работать с реальными количествами америция, радиационная устойчивость оказалась крайне низкой. Это был французский проект, сейчас он фактически закрыт.
Ну и еще одна проблема — мало кто ставил задачу вовлечения америция в топливный цикл. Пожалуй, впервые серьезно за это взялись на проекте «Прорыв». Но нужно помнить, что предлагать идеи легко, а создать действующие аппараты — гораздо сложнее.
О технологиях переработки ОЯТ быстрых реакторов
Таких технологий, формально говоря, три: газофторидная, гидрометаллургическая и пирохимическая. Газофторидная технология в проекте «Прорыв» всерьез не рассматривалась, потому что она интересна прежде всего для переработки топлива тепловых реакторов, основной компонент которого — уран.
Преимущества очевидны: конечный продукт получается в форме гексафторида урана, и его можно сразу же отправить на разделительный каскад, минуя несколько промежуточных операций.
Пирохимия рассматривается в качестве серьезной технологии для переработки ОЯТ, но есть две сложности. Во-первых, пироэлектрохимия хорошо проработана для двух видов топлива: металлического и оксидного. Но если теоретически считалось, что нитридное топливо должно быть по свойствам примерно таким же, как металлическое, то на практике оказалось, что это не так. У этой технологии есть свои подводные камни и сложности, с которыми сейчас пытаются справиться — но уже, вероятно, на уровне НИОКР. Технология существенно отстает по времени от намеченных планов промышленной реализации.
И, наконец, гидрометаллургия — она достаточно известна, проработана, используется в мире.
При сравнении двух последних технологий у обеих обнаружатся достоинства и недостатки.
Гидрометаллургия построена на непрерывных процессах с постоянным массообменом. Это значит, что необходимо работать в водном растворе, при этом имеются ограничения по температуре: нельзя работать с низковыдержанным топливом, оно горячее, есть риски.
Пирохимия же построена на периодических процессах, но в высокотемпературных солях.
Егор Гайдар когда-то сказал: только банкир-идиот не знает, что такое пирамида, но только банкир-жулик понятием «пирамида» пользуется. Вот так же только технолог-идиот не знает, что можно подать в рубашку любого аппарата охлаждающую жидкость и при этом снизить температуру процесса, но только технолог-жулик скажет, что этот процесс обладает внутренней безопасностью. Потери теплоносителя случаются, ломаются насосы — и возникает риск, что находящийся внутри аппарата раствор при потере охлаждения начнет разогреваться.
Зато, поскольку в гидрометаллургии процессы непрерывны, здесь работает принцип противотока — то есть две фазы идут навстречу друг другу. В результате получаются глубокое извлечение, высокая степень очистки, да еще и разделение. Это невозможно в процессе, который проводится периодически. Поэтому гидрометаллургия не может работать с горячим топливом, но может получить чистые продукты.
Ахиллесова пята гидрометаллургии — тритий. Как только тритий из топлива попадает в воду, происходит изотопный обмен, и весь объем воды становится тритий-содержащим радиоактивным отходом. Можно удалить оттуда все остальные примеси, но тритий останется. А это достаточно опасный элемент, хотя у него высокие пороги допустимых концентраций. Необходимо разделить протий, дейтерий и тритий, а это крайне затратно. Вот «родовая болезнь» гидрометаллургии, с которой ничего не сделаешь.
Поэтому на ОДЦ ГХК и пошли на высокотемпературные операции — окисление топлива.
Пирохимия — процесс высокотемпературный, соответственно, можно сразу избавиться от вредного влияния трития. Пирохимия не очень чувствительна к выдержке. Чтобы переработать топливо гидрометаллургическим методом, необходимо два-три года. При использовании пирохимических технологий потребуется всего год, а в дальнейшем, возможно, и полгода. Полгода и два-три года — это заметная разница, это две загрузки в реактор. Довольно большая экономия, и за это имеет смысл бороться.
Но сегодня с помощью пирохимии невозможно получить чистые материалы. Эта технология пока не достигла высокого уровня, хотя развивается уже около 40 лет.
Если вкратце: в гидрометаллургии большой срок выдержки и чистые продукты на выходе; в пирохимии выдержка короткая, но получить чистые продукты пока не удается.
Вторая цель — экология. Понятно, что соблюдение норм и правил невмешательства в экологическую среду — это требование к любому заводу. Но «Прорыв» поставил задачу на порядок выше: приблизиться к радиационно-экологическому эквивалентному захоронению. Что это значит? Мы добываем уран, имеющий, вместе с дочерними продуктами распада, некий объем активности, изготавливаем из него топливо, получаем энергию в реакторе, перерабатываем, получаем отходы — и активность этих отходов за определенное время (100 лет, 300 или 500 — но это должен быть срок, при котором можно технически гарантировать сохранность барьеров) не превысит того уровня, который был при добыче. Для этого нормы по потерям урана, плутония, америция и кюрия должны быть примерно в 10 раз жестче тех, которые установлены сейчас.
Очевидна необходимость новых решений. И если для повторного использования урана, плутония, нептуния уже существуют реальные гидрометаллургические производства, то разделение америция и кюрия на промышленном уровне не производится нигде, эта проблема решается пока только на уровне НИОКР. Конечно, эксперименты уже проводились: на проекте «Прорыв», например, из топлива было выделено 60 г америция, — но все-таки это еще не готовая к производству технология.
Давайте разберемся, зачем нужно разделять америций и кюрий.
Во-первых, проблема минорных актинидов не столько в их активности (у кюрия еще огромный нейтронный поток), сколько в том, что при радиоактивном распаде (а он длится около 200 лет для америция и 18 лет для кюрия) они переходят в нептуний и плутоний. А у этих элементов уже существенно больший период полураспада — миллионы лет, причем это наиболее опасные альфа-излучатели. Кроме того, америций и кюрий вносят большой вклад в тепловыделение самого ядерного топлива — если их вовлечь обратно, топливо будет достаточно горячим, обладая при этом высоким нейтронным потоком.
Вторая проблема минорных актинидов лежит исключительно в области химии. Америций и кюрий проявляют такие же химические свойства, как редкоземельные элементы, которых в топливе довольно много: это лантан, церий, неодим и другие. Если считать, что в ВВЭР-топливе 5 кг редких земель, то на их фоне — около 50 г америция, очень близкого к ним по свойствам. Их нужно разделить; это дорогая технология.
Из-за того, что америций с кюрием достаточно высокоактивны, при любых используемых методах радиационная нагрузка останется высокой. Пока реальное развитие получил только гидрометаллургический метод. Самый лучший процесс был на органическом соединении BТР, однако, когда стали работать с реальными количествами америция, радиационная устойчивость оказалась крайне низкой. Это был французский проект, сейчас он фактически закрыт.
Ну и еще одна проблема — мало кто ставил задачу вовлечения америция в топливный цикл. Пожалуй, впервые серьезно за это взялись на проекте «Прорыв». Но нужно помнить, что предлагать идеи легко, а создать действующие аппараты — гораздо сложнее.
О технологиях переработки ОЯТ быстрых реакторов
Таких технологий, формально говоря, три: газофторидная, гидрометаллургическая и пирохимическая. Газофторидная технология в проекте «Прорыв» всерьез не рассматривалась, потому что она интересна прежде всего для переработки топлива тепловых реакторов, основной компонент которого — уран.
Преимущества очевидны: конечный продукт получается в форме гексафторида урана, и его можно сразу же отправить на разделительный каскад, минуя несколько промежуточных операций.
Пирохимия рассматривается в качестве серьезной технологии для переработки ОЯТ, но есть две сложности. Во-первых, пироэлектрохимия хорошо проработана для двух видов топлива: металлического и оксидного. Но если теоретически считалось, что нитридное топливо должно быть по свойствам примерно таким же, как металлическое, то на практике оказалось, что это не так. У этой технологии есть свои подводные камни и сложности, с которыми сейчас пытаются справиться — но уже, вероятно, на уровне НИОКР. Технология существенно отстает по времени от намеченных планов промышленной реализации.
И, наконец, гидрометаллургия — она достаточно известна, проработана, используется в мире.
При сравнении двух последних технологий у обеих обнаружатся достоинства и недостатки.
Гидрометаллургия построена на непрерывных процессах с постоянным массообменом. Это значит, что необходимо работать в водном растворе, при этом имеются ограничения по температуре: нельзя работать с низковыдержанным топливом, оно горячее, есть риски.
Пирохимия же построена на периодических процессах, но в высокотемпературных солях.
Егор Гайдар когда-то сказал: только банкир-идиот не знает, что такое пирамида, но только банкир-жулик понятием «пирамида» пользуется. Вот так же только технолог-идиот не знает, что можно подать в рубашку любого аппарата охлаждающую жидкость и при этом снизить температуру процесса, но только технолог-жулик скажет, что этот процесс обладает внутренней безопасностью. Потери теплоносителя случаются, ломаются насосы — и возникает риск, что находящийся внутри аппарата раствор при потере охлаждения начнет разогреваться.
Зато, поскольку в гидрометаллургии процессы непрерывны, здесь работает принцип противотока — то есть две фазы идут навстречу друг другу. В результате получаются глубокое извлечение, высокая степень очистки, да еще и разделение. Это невозможно в процессе, который проводится периодически. Поэтому гидрометаллургия не может работать с горячим топливом, но может получить чистые продукты.
Ахиллесова пята гидрометаллургии — тритий. Как только тритий из топлива попадает в воду, происходит изотопный обмен, и весь объем воды становится тритий-содержащим радиоактивным отходом. Можно удалить оттуда все остальные примеси, но тритий останется. А это достаточно опасный элемент, хотя у него высокие пороги допустимых концентраций. Необходимо разделить протий, дейтерий и тритий, а это крайне затратно. Вот «родовая болезнь» гидрометаллургии, с которой ничего не сделаешь.
Поэтому на ОДЦ ГХК и пошли на высокотемпературные операции — окисление топлива.
Пирохимия — процесс высокотемпературный, соответственно, можно сразу избавиться от вредного влияния трития. Пирохимия не очень чувствительна к выдержке. Чтобы переработать топливо гидрометаллургическим методом, необходимо два-три года. При использовании пирохимических технологий потребуется всего год, а в дальнейшем, возможно, и полгода. Полгода и два-три года — это заметная разница, это две загрузки в реактор. Довольно большая экономия, и за это имеет смысл бороться.
Но сегодня с помощью пирохимии невозможно получить чистые материалы. Эта технология пока не достигла высокого уровня, хотя развивается уже около 40 лет.
Если вкратце: в гидрометаллургии большой срок выдержки и чистые продукты на выходе; в пирохимии выдержка короткая, но получить чистые продукты пока не удается.
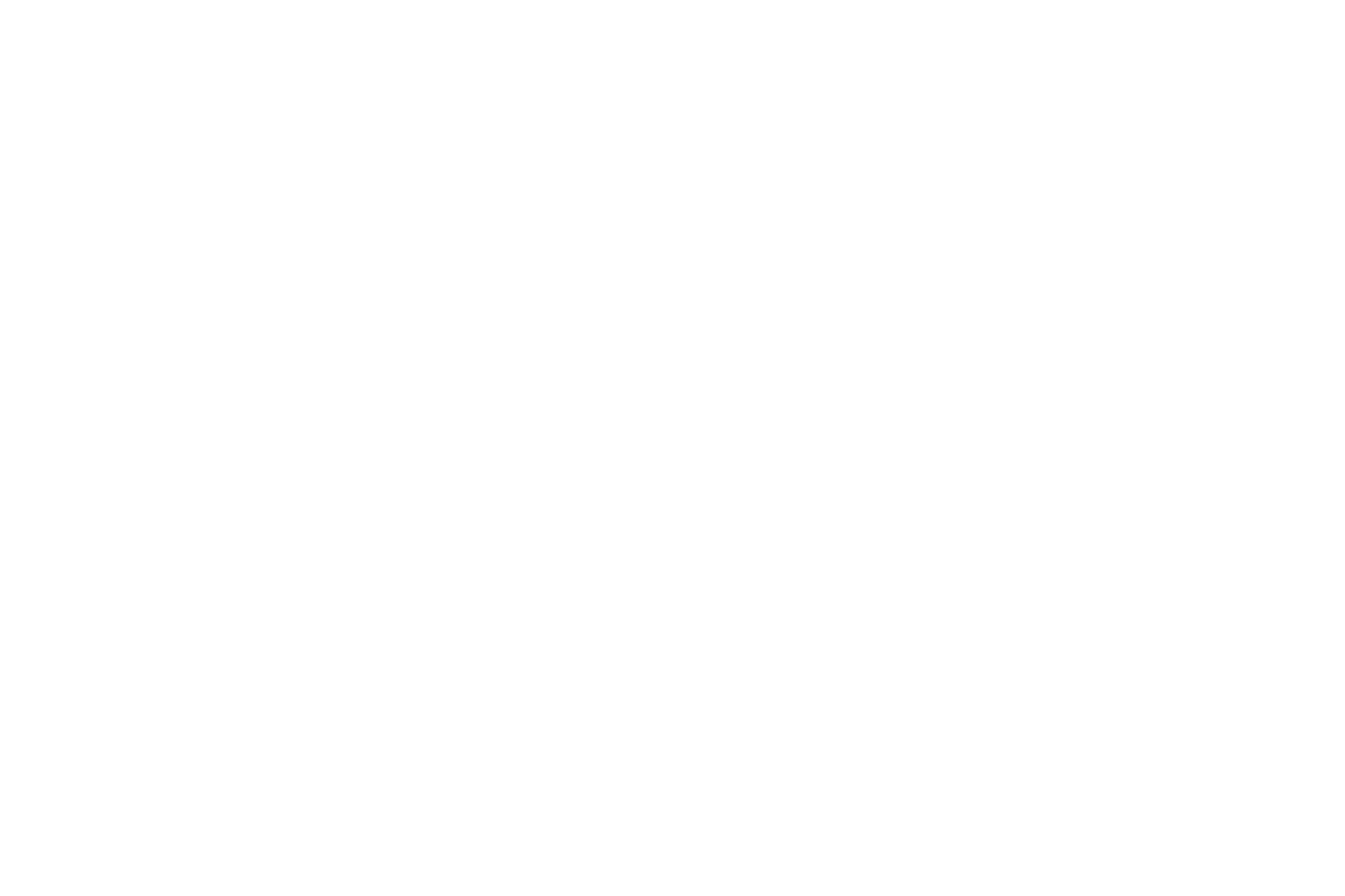
Я упомянул ОДЦ с высокотемпературными процессами; для быстрых реакторов с высоким содержанием плутония в топливе есть еще один плюс в пирохимии и минус в гидрометаллургии — это ядерная безопасность. В случае пирохимии нет воды, нет замедлителя — и можно работать в единичном аппарате с гораздо большими объемами ядерного материала; для гидрометаллургии это ограничение.
Я считаю, что необходима комбинированная технология, и в проекте «Прорыв» была заложена именно она. Головные операции нужно реализовать пирохимически: провести грубую первичную очистку и выделить ценные компоненты; а уже эти компоненты — уран, плутоний, нептуний (в идеале также америций и кюрий) — доочищать и разделять гидрометаллургиче-скими методами, хорошо для этого приспособленными.
К сожалению, оказалось, что нитрид ведет себя не совсем так, как металл, и пирохимическую технологию надо усложнять; пока не получилось собрать в один продукт америций, кюрий, плутоний и нептуний, чтобы они пришли на гидрометаллургическую часть все вместе. А когда они приходят по отдельности, это существенно усложняет гидрометаллургический передел. Чем больше продуктов переходит из одного передела в другой, тем больше затрат будет на втором переделе. Если удастся вывести из пирохимии уран, плутоний, нептуний, америций и кюрий, то затраты существенно снизятся.
Еще одна беда пирохимии — никто и никогда всерьез не занимался обращением с отходами от пирохимических технологий. Пока все, что есть, — это гидрометаллургические методы; получается, что нужно работать и над тем и над другим. Я считаю, что это правильный путь, хоть и затратный. В общем, если пирохимические технологии сумеют реализовать свой потенциал, то, бесспорно, будущее у них есть. Есть ли на этом пути подводные камни? Конечно, есть. Можно ли их преодолеть? Вот этого я пока не знаю.
О проблемах современной отечественной радиохимии
Безусловно, существует проблема передачи знаний. По-моему, мы прошли точку невозврата, старой школы радиохимии больше не существует — нет школ А. Бочвара, М. Пушленкова, В. Шведова. Конечно, это не значит, что школа радиохи-мии не может быть воссоздана. Но, к сожалению, ни у одного из тех крупных ученых химиков-технологов, которые сейчас работают, нет своей школы.
Однако надежда есть: существует очень небольшой и, к сожалению, разрозненный коллектив, состоящий из относительно молодых ученых (30−40 лет), работающих каждый в своем направлении на высоком уровне.
Основная проблема современной радиохимии — это разрозненность.
Я сторонник проектного управления. Радиохимическая лаборатория, по моим представлениям, должна состоять из 40−60 человек, а мы сейчас имеем этих 40−60 человек, работающих — квалифицированно — в разных направлениях, разбросанных по нескольким площадкам: это Москва и Петербург — в основном ВНИИНМ и ВНИИХТ; это сильные «Маяк», Северск и ГХК. Владимир Иванович Волк из ВНИИНМа, один из ведущих специалистов в области технологий, еще в советские времена ставший лауреатом Государственной премии, говорит: «Нет перекрестного опыления, общаемся редко, не каждый день, и каждый варится в собственном соку».
В проекте «Прорыв» мы попытались всех объединить, работа была построена как проектное направление, когда задачи распределены и организована координация. Это работает с точки зрения решения проблем проекта, но не с точки зрения сохранения знаний. Поскольку мы работаем в разных организациях, все равно каждая группа преследует собственные интересы. В условиях недостатка кадрового и финансового ресурса я решения этой проблемы не вижу, не знаю, как к ней подступаться.
«Прорыв»: какие новости?
Закончен первый этап проектирования. Но поставка топлива на переработку планируется не раньше 2025 года, а значит, нет смысла завершать строительство объекта в 2020 году, как мы собирались, — хотя можно было бы начать строительство уже в 2017 году (проект прошел ведомственную экспертизу). Но тогда построенный объект будет пять лет стоять, требовать затрат и не иметь никакой загрузки. Поэтому ожидается, что срок пуска объекта будет перенесен, чтобы можно было откорректировать проект, проверить все решения.
Пока гидрометаллургия заложена в качестве основной технологии, но предусмотрена возможность проверки пирохимических технологий — сейчас обсуждается, в каком объеме и в какой срок.
Я считаю, что необходима комбинированная технология, и в проекте «Прорыв» была заложена именно она. Головные операции нужно реализовать пирохимически: провести грубую первичную очистку и выделить ценные компоненты; а уже эти компоненты — уран, плутоний, нептуний (в идеале также америций и кюрий) — доочищать и разделять гидрометаллургиче-скими методами, хорошо для этого приспособленными.
К сожалению, оказалось, что нитрид ведет себя не совсем так, как металл, и пирохимическую технологию надо усложнять; пока не получилось собрать в один продукт америций, кюрий, плутоний и нептуний, чтобы они пришли на гидрометаллургическую часть все вместе. А когда они приходят по отдельности, это существенно усложняет гидрометаллургический передел. Чем больше продуктов переходит из одного передела в другой, тем больше затрат будет на втором переделе. Если удастся вывести из пирохимии уран, плутоний, нептуний, америций и кюрий, то затраты существенно снизятся.
Еще одна беда пирохимии — никто и никогда всерьез не занимался обращением с отходами от пирохимических технологий. Пока все, что есть, — это гидрометаллургические методы; получается, что нужно работать и над тем и над другим. Я считаю, что это правильный путь, хоть и затратный. В общем, если пирохимические технологии сумеют реализовать свой потенциал, то, бесспорно, будущее у них есть. Есть ли на этом пути подводные камни? Конечно, есть. Можно ли их преодолеть? Вот этого я пока не знаю.
О проблемах современной отечественной радиохимии
Безусловно, существует проблема передачи знаний. По-моему, мы прошли точку невозврата, старой школы радиохимии больше не существует — нет школ А. Бочвара, М. Пушленкова, В. Шведова. Конечно, это не значит, что школа радиохи-мии не может быть воссоздана. Но, к сожалению, ни у одного из тех крупных ученых химиков-технологов, которые сейчас работают, нет своей школы.
Однако надежда есть: существует очень небольшой и, к сожалению, разрозненный коллектив, состоящий из относительно молодых ученых (30−40 лет), работающих каждый в своем направлении на высоком уровне.
Основная проблема современной радиохимии — это разрозненность.
Я сторонник проектного управления. Радиохимическая лаборатория, по моим представлениям, должна состоять из 40−60 человек, а мы сейчас имеем этих 40−60 человек, работающих — квалифицированно — в разных направлениях, разбросанных по нескольким площадкам: это Москва и Петербург — в основном ВНИИНМ и ВНИИХТ; это сильные «Маяк», Северск и ГХК. Владимир Иванович Волк из ВНИИНМа, один из ведущих специалистов в области технологий, еще в советские времена ставший лауреатом Государственной премии, говорит: «Нет перекрестного опыления, общаемся редко, не каждый день, и каждый варится в собственном соку».
В проекте «Прорыв» мы попытались всех объединить, работа была построена как проектное направление, когда задачи распределены и организована координация. Это работает с точки зрения решения проблем проекта, но не с точки зрения сохранения знаний. Поскольку мы работаем в разных организациях, все равно каждая группа преследует собственные интересы. В условиях недостатка кадрового и финансового ресурса я решения этой проблемы не вижу, не знаю, как к ней подступаться.
«Прорыв»: какие новости?
Закончен первый этап проектирования. Но поставка топлива на переработку планируется не раньше 2025 года, а значит, нет смысла завершать строительство объекта в 2020 году, как мы собирались, — хотя можно было бы начать строительство уже в 2017 году (проект прошел ведомственную экспертизу). Но тогда построенный объект будет пять лет стоять, требовать затрат и не иметь никакой загрузки. Поэтому ожидается, что срок пуска объекта будет перенесен, чтобы можно было откорректировать проект, проверить все решения.
Пока гидрометаллургия заложена в качестве основной технологии, но предусмотрена возможность проверки пирохимических технологий — сейчас обсуждается, в каком объеме и в какой срок.

Говоря «откорректировать проект», я подразумеваю: сделать его экономически более эффективным. Ни для кого не секрет, что ВВЭР-ТОИ — это фактически первая попытка получить типовой реактор. Как бы то ни было, энергоблоков работает больше 20, а завод по переработке топлива именно АЭС, а не оборонных заводов, — только один (да их и в мире-то наберется всего десяток).
Объект уникальный, о типовых решениях речь не идет. Сначала был проект опытно-демонстрационного центра под ВВЭР, который не учитывал специфику работы с плутонием. Потом появился проект модуля фабрикации на ОДЭК, и этот модуль сейчас строится. Там нет переработки топлива, но там много плутония и есть своя специфика. И тот и другой объекты уже строят и пускают, в процессе их работы появляются разнообразные трудности, которые сейчас мы можем учесть и откорректировать свой проект.
Кроме того, поскольку выбрана большая программа доказательства работоспособности нитридного топлива, сейчас появилось реальное ОЯТ. Проведены исследования топлива с выгоранием больше 5%, и планируется, что к концу 2017 года появится топливо с выгоранием около 8%. На нем можно поставить эксперимент и узнать, верны ли наши расчеты, касающиеся оборудования. Безопасность и минимизация воздействия на окружающую среду — приоритетные задачи, поэтому решения сейчас принимаются консервативные.
Например, если точно не известно, куда в этом продукте пойдет плутоний, как распределится 14С или тритий, — соответственно, разрабатываются нивелирующие меры, а это дорого. Но когда, в 2018—2019 годах, появится возможность провести эксперименты и скорректировать данные, стоимость проекта может быть существенно снижена.
О перспективах РТ‑1 и РТ‑2
Конкретных планов создания РТ‑2 сегодня нет. Сложно давать временные прогнозы, но при масштабном развитии атомной энергетики неизбежно понадобится источник плутония на быстрых реакторах.
Конечно, можно стартовать и с урана — есть такие проекты — и жить в однокомпонентной энергетике. Идеология проекта «Прорыв» — это идеальный реактор однокомпонентной энергетики. Затрудняюсь оценить, правильно это или нет, потому что давать оценку на 40−50 лет вперед — дело неблагодарное.
Я не являюсь принципиальным сторонником ни однокомпонентной, ни двухкомпонентной энергетики, но считаю, что мы в любом случае проживем лет тридцать в двухкомпонентной — а значит, необходимо учитывать потребности обоих этих направлений. ОДЭК с реактором БРЕСТ можно сделать своеобразным прототипом будущего: там будут возникать проблемы, мы будем развивать этот проект, изменять, настраивать, но не тиражировать.
Если уж мы начнем перерабатывать и замыкать топливный цикл быстрых реакторов, мы не сможем бросить то ОЯТ, которое уже накоплено из тепловых, — его тоже придется переработать. И надо будет аккуратно провести грань между ураном и плутонием и вовлечь в топливный цикл все продукты.
Что касается топлива для тепловых реакторов, у нас достаточно накопленного урана, который можно рециклировать и не хранить как радиоактивный отход. А плутоний и америций с кюрием, которые нужно будет извлечь, отправятся на утилизацию.
В любом случае, мне кажется, появится необходимость строить завод РТ‑2 для переработки топлива тепловых реакторов. Сроки строительства будут зависеть от планов развития быстрой энергетики. Кстати, опытно-демонстрационный центр ГХК можно рассматривать как первую очередь завода РТ‑2: здесь есть производство МОХ для БН‑800.
Объект уникальный, о типовых решениях речь не идет. Сначала был проект опытно-демонстрационного центра под ВВЭР, который не учитывал специфику работы с плутонием. Потом появился проект модуля фабрикации на ОДЭК, и этот модуль сейчас строится. Там нет переработки топлива, но там много плутония и есть своя специфика. И тот и другой объекты уже строят и пускают, в процессе их работы появляются разнообразные трудности, которые сейчас мы можем учесть и откорректировать свой проект.
Кроме того, поскольку выбрана большая программа доказательства работоспособности нитридного топлива, сейчас появилось реальное ОЯТ. Проведены исследования топлива с выгоранием больше 5%, и планируется, что к концу 2017 года появится топливо с выгоранием около 8%. На нем можно поставить эксперимент и узнать, верны ли наши расчеты, касающиеся оборудования. Безопасность и минимизация воздействия на окружающую среду — приоритетные задачи, поэтому решения сейчас принимаются консервативные.
Например, если точно не известно, куда в этом продукте пойдет плутоний, как распределится 14С или тритий, — соответственно, разрабатываются нивелирующие меры, а это дорого. Но когда, в 2018—2019 годах, появится возможность провести эксперименты и скорректировать данные, стоимость проекта может быть существенно снижена.
О перспективах РТ‑1 и РТ‑2
Конкретных планов создания РТ‑2 сегодня нет. Сложно давать временные прогнозы, но при масштабном развитии атомной энергетики неизбежно понадобится источник плутония на быстрых реакторах.
Конечно, можно стартовать и с урана — есть такие проекты — и жить в однокомпонентной энергетике. Идеология проекта «Прорыв» — это идеальный реактор однокомпонентной энергетики. Затрудняюсь оценить, правильно это или нет, потому что давать оценку на 40−50 лет вперед — дело неблагодарное.
Я не являюсь принципиальным сторонником ни однокомпонентной, ни двухкомпонентной энергетики, но считаю, что мы в любом случае проживем лет тридцать в двухкомпонентной — а значит, необходимо учитывать потребности обоих этих направлений. ОДЭК с реактором БРЕСТ можно сделать своеобразным прототипом будущего: там будут возникать проблемы, мы будем развивать этот проект, изменять, настраивать, но не тиражировать.
Если уж мы начнем перерабатывать и замыкать топливный цикл быстрых реакторов, мы не сможем бросить то ОЯТ, которое уже накоплено из тепловых, — его тоже придется переработать. И надо будет аккуратно провести грань между ураном и плутонием и вовлечь в топливный цикл все продукты.
Что касается топлива для тепловых реакторов, у нас достаточно накопленного урана, который можно рециклировать и не хранить как радиоактивный отход. А плутоний и америций с кюрием, которые нужно будет извлечь, отправятся на утилизацию.
В любом случае, мне кажется, появится необходимость строить завод РТ‑2 для переработки топлива тепловых реакторов. Сроки строительства будут зависеть от планов развития быстрой энергетики. Кстати, опытно-демонстрационный центр ГХК можно рассматривать как первую очередь завода РТ‑2: здесь есть производство МОХ для БН‑800.
Поколения заводов переработки РАО

Теперь о заводе РТ‑1. У него своя ниша. Этот завод всеяден — на нем можно переработать любой вид топлива. Я недавно выяснял, можно ли на ОДЦ ГХК перерабатывать топливо быстрых реакторов. Оказалось, что технология, заложенная в ОДЦ, заточена под ВВЭР‑1000; переработать там другое топливо можно, но это совершенно невыгодно экономически.
На «Маяке» ситуация зеркальная: экономическая эффективность не на высоте, зато можно переработать абсолютно любое топливо. И если всерьез заниматься развитием атомной энергетики и замыканием топливного цикла, нам нужно три разных завода на ближайшие 50 лет: заводы по переработке топлива тепловых реакторов, топлива быстрых реакторов и «всеядный» «Маяк», где можно перерабатывать специфические виды топлива.
О разнице между классическим ОЯТ и ОЯТ быстрых реакторов. Особенности переработки
Принципиальная разница между ними — в содержании плутония и в выгорании. Соответственно, при переработке этих видов отработавшего топлива ставятся разные цели.
При переработке ОЯТ быстрых реакторов ставится цель получить плутоний и нептуний. При переработке ОЯТ тепловых реакторов нужно что-то делать с ураном. Расчеты показывают, что уран эффективно дообогащать до выгорания примерно 50 ГВт·сут/т. Выделенный из регенерата дообогащать и снова возвращать в тепловой реактор, для того чтобы дожигать 235U. Сколько раз — вопрос открытый. Если мы этого не делаем, то получаем радиоактивные отходы в больших объемах.
Плутоний уходит в топливо для быстрых реакторов; содержание плутония в ОЯТ ВВЭР — 1%, в СНУП или МОХ-топливе — от 13% до 20%. Но невозможно отправить в быстрые реакторы весь уран, он так и останется в отходах.
Встает стратегический вопрос. С одной стороны, можно идти по пути повышения выгорания топлива тепловых реакторов. Понятно, что чем дольше служит батарейка, тем меньше затраты. Кроме того, чем реже меняется топливо, тем меньше будет радиоактивных отходов: число выделившихся нуклидов не изменится, но значительно уменьшится количество изготовленных ТВС, металла как радиоактивного отхода — и выигрыш будет. Но в этом случае уран пойдет в радиоактивный отход. Можно ограничить выгорание, остановиться примерно на уровне 50, и тогда уран многократно рециклировать.
С другой стороны, можно пойти по варианту REMIX, где уран рециклируется вместе с плутонием и нептунием непосредственно в топливо теплового реактора, — это позволит несколько раз использовать один и тот же уран и плутоний. Правда, потом его все равно придется куда-то поместить — вероятнее всего, в быстрый реактор. Но в любом случае даже двух-трехкратный оборот урана снизит в два-три раза количество урана, которое нужно хранить как радиоактивный отход. Это специфика выгорания.
Для быстрых реакторов чем выше выгорание, тем лучше — правда, перерабатывать выгоревшее ОЯТ сложнее. Приведу элементарный пример: выгорание увеличилось с 10% до 20%. Это означает, что на получение того же количества энергии потрачено в два раза меньше топлива. Да, оно стало сложным для переработки, но в макроэкономических показателях стоимость генерации 1 ГВт электроэнергии не изменилась. А теоретически ее можно снизить — для этого нужно поменять технологию, подстроиться под конкретное выгорание, чем мы и занимаемся.
Переработка низковыгоревшего и высоковыгоревшего топлива — это две абсолютно разные задачи в гидрометаллургии. Высоковыгоревшее топливо за выгоранием более 5% т.а. — это химия уже не только урана и плутония, но и всей таблицы элементов Менделеева. Потому что все химические соединения — молибден, цирконий, стронций, барий — приближаются к пределу растворимости в азотнокислых средах. Для выгорания 30 ГВт на это можно даже не обращать внимания, 50 — это граница, где уже достаточно опасно, а 100 ГВт — все: осадки, проблемы, борьба.
Давайте, кстати, сразу определимся с единицей измерения эффективности процесса переработки ОЯТ. Я считаю, что универсальный критерией — количество выработанной электроэнергии, а единица измерения — рубль за киловатт.
О различиях технологий переработки ОЯТ и РАО
Разделение этих технологий исторически сложилось благодаря РТ‑1, где перерабатывались разные виды топлива. На самом деле это неразрывная, единая технология, и технолог уже в процессе должен думать о том, что будет в конце.
Отдельная тема — это обращение с РАО, возникающими не вследствие переработки ОЯТ: на атомных станциях, в исследовательских институтах, при производстве медицинских изотопов. Эта область устроена иначе.
С точки зрения активности — по беккерелям или кюри — максимальное количество отходов приходит от переработки, и эти отходы высоко- и среднеактивные. Но с точки зрения объемов максимальное количество отходов получается как раз из этой последней области — от станций, медицины, институтов. К этим отходам технологии переработки ОЯТ малоприменимы, хотя исторически некая связь сохранилась.
На «Маяке» ситуация зеркальная: экономическая эффективность не на высоте, зато можно переработать абсолютно любое топливо. И если всерьез заниматься развитием атомной энергетики и замыканием топливного цикла, нам нужно три разных завода на ближайшие 50 лет: заводы по переработке топлива тепловых реакторов, топлива быстрых реакторов и «всеядный» «Маяк», где можно перерабатывать специфические виды топлива.
О разнице между классическим ОЯТ и ОЯТ быстрых реакторов. Особенности переработки
Принципиальная разница между ними — в содержании плутония и в выгорании. Соответственно, при переработке этих видов отработавшего топлива ставятся разные цели.
При переработке ОЯТ быстрых реакторов ставится цель получить плутоний и нептуний. При переработке ОЯТ тепловых реакторов нужно что-то делать с ураном. Расчеты показывают, что уран эффективно дообогащать до выгорания примерно 50 ГВт·сут/т. Выделенный из регенерата дообогащать и снова возвращать в тепловой реактор, для того чтобы дожигать 235U. Сколько раз — вопрос открытый. Если мы этого не делаем, то получаем радиоактивные отходы в больших объемах.
Плутоний уходит в топливо для быстрых реакторов; содержание плутония в ОЯТ ВВЭР — 1%, в СНУП или МОХ-топливе — от 13% до 20%. Но невозможно отправить в быстрые реакторы весь уран, он так и останется в отходах.
Встает стратегический вопрос. С одной стороны, можно идти по пути повышения выгорания топлива тепловых реакторов. Понятно, что чем дольше служит батарейка, тем меньше затраты. Кроме того, чем реже меняется топливо, тем меньше будет радиоактивных отходов: число выделившихся нуклидов не изменится, но значительно уменьшится количество изготовленных ТВС, металла как радиоактивного отхода — и выигрыш будет. Но в этом случае уран пойдет в радиоактивный отход. Можно ограничить выгорание, остановиться примерно на уровне 50, и тогда уран многократно рециклировать.
С другой стороны, можно пойти по варианту REMIX, где уран рециклируется вместе с плутонием и нептунием непосредственно в топливо теплового реактора, — это позволит несколько раз использовать один и тот же уран и плутоний. Правда, потом его все равно придется куда-то поместить — вероятнее всего, в быстрый реактор. Но в любом случае даже двух-трехкратный оборот урана снизит в два-три раза количество урана, которое нужно хранить как радиоактивный отход. Это специфика выгорания.
Для быстрых реакторов чем выше выгорание, тем лучше — правда, перерабатывать выгоревшее ОЯТ сложнее. Приведу элементарный пример: выгорание увеличилось с 10% до 20%. Это означает, что на получение того же количества энергии потрачено в два раза меньше топлива. Да, оно стало сложным для переработки, но в макроэкономических показателях стоимость генерации 1 ГВт электроэнергии не изменилась. А теоретически ее можно снизить — для этого нужно поменять технологию, подстроиться под конкретное выгорание, чем мы и занимаемся.
Переработка низковыгоревшего и высоковыгоревшего топлива — это две абсолютно разные задачи в гидрометаллургии. Высоковыгоревшее топливо за выгоранием более 5% т.а. — это химия уже не только урана и плутония, но и всей таблицы элементов Менделеева. Потому что все химические соединения — молибден, цирконий, стронций, барий — приближаются к пределу растворимости в азотнокислых средах. Для выгорания 30 ГВт на это можно даже не обращать внимания, 50 — это граница, где уже достаточно опасно, а 100 ГВт — все: осадки, проблемы, борьба.
Давайте, кстати, сразу определимся с единицей измерения эффективности процесса переработки ОЯТ. Я считаю, что универсальный критерией — количество выработанной электроэнергии, а единица измерения — рубль за киловатт.
О различиях технологий переработки ОЯТ и РАО
Разделение этих технологий исторически сложилось благодаря РТ‑1, где перерабатывались разные виды топлива. На самом деле это неразрывная, единая технология, и технолог уже в процессе должен думать о том, что будет в конце.
Отдельная тема — это обращение с РАО, возникающими не вследствие переработки ОЯТ: на атомных станциях, в исследовательских институтах, при производстве медицинских изотопов. Эта область устроена иначе.
С точки зрения активности — по беккерелям или кюри — максимальное количество отходов приходит от переработки, и эти отходы высоко- и среднеактивные. Но с точки зрения объемов максимальное количество отходов получается как раз из этой последней области — от станций, медицины, институтов. К этим отходам технологии переработки ОЯТ малоприменимы, хотя исторически некая связь сохранилась.
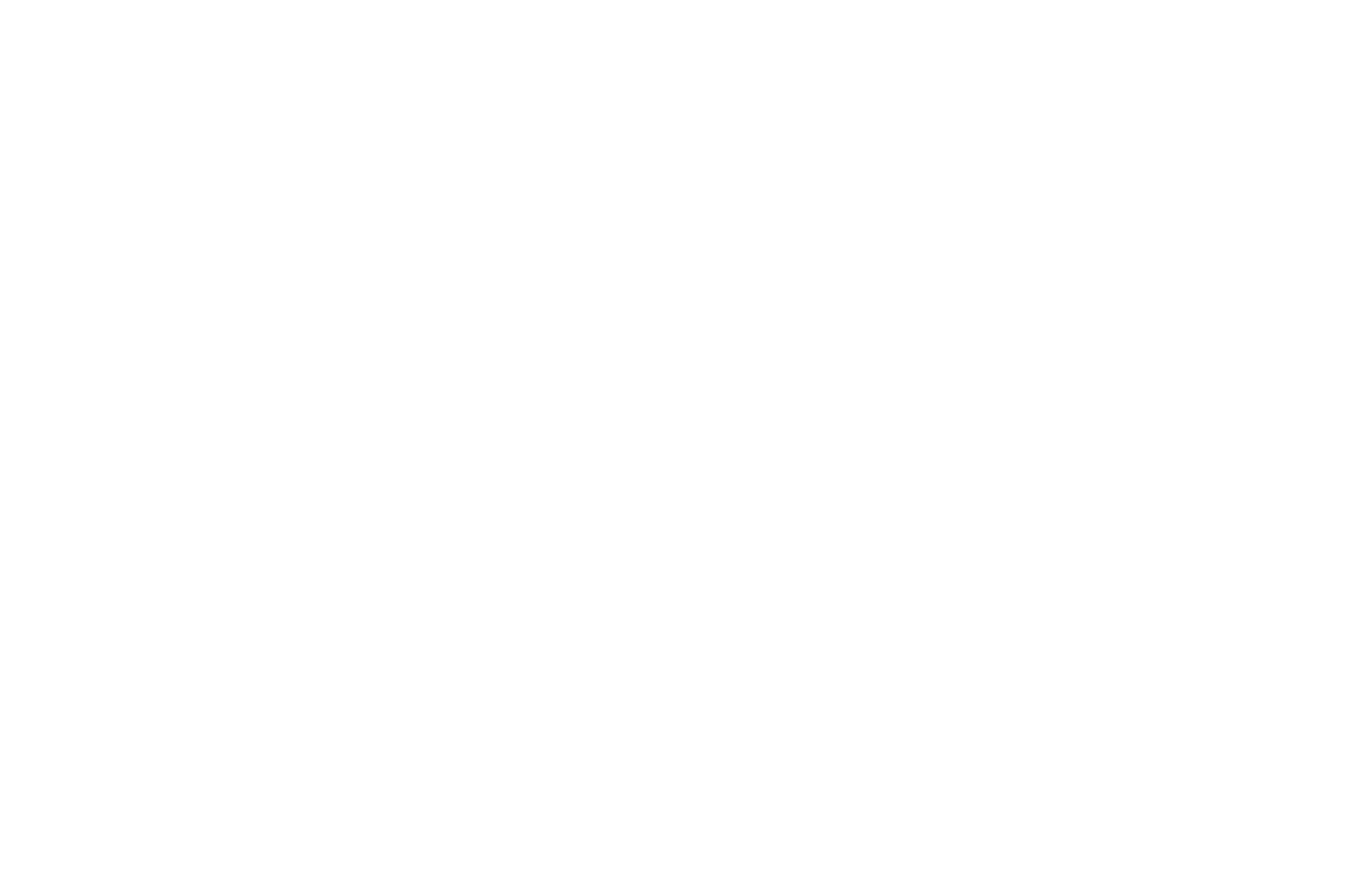
Есть универсальные эффективные технологии, которые могут применяться для различных нужд (и важнейшую роль в распространении информации об этих технологиях играют научные журналы и конференции). Примером может послужить холодный тигель для остекловывания радиоактивных отходов, который в классическом варианте в России пока нигде не внедрен. Но и ФГУП «Радон», и Горно-химический комбинат, и «Маяк» имеют эту технологию в виду, не дублируют разработки друг друга, а стараются использовать холодный тигель для своих нужд, немного изменив «под себя».
Еще есть любопытная технология — плазменная сепарация. Это единственная известная мне технология, которая реально гарантирует неразделение урана и плутония. Во всех остальных случаях процесс можно изменить так, чтобы выделить чистый плутоний, хотя существует технологическая защита и выделение будет дорогим и неэффективным.
С другой стороны, пока непонятно, сколько лет понадобится для развития этой перспективной технологии. В США была программа «Архимед», нацеленная на обращение с радиоактивными отходами, но там был исследован далеко не весь перечень элементов, которые появляются в ОЯТ. Насколько я знаю, в России эксперименты по плазменной сепарации проводились пока даже без урана. Валентин Пантелеймонович Смирнов активно занимается этими вопросами, у него создана установка, и если его работы будут продолжать финансироваться, то года через два можно будет оценить промежуточные результаты.
Об итогах 2016 года и ожиданиях от 2017-го.
Я рад, что 2016-й закончился: он был очень непростым для нашего направления, мы понесли большие человеческие потери. Не стало нескольких выдающихся специалистов: Валентина Борисовича Иванова, Олега Владимировича Скибы. Александр Глебович Масленников умер неожиданно, в разгаре творческого процесса. С технической точки зрения, все, что могли, мы выполнили, но потеряли замечательных людей.
В будущем году (лекция записывалась в декабре 2016 года. — Прим. ред.) в Екатеринбурге пройдет крупная конференция по быстрым реакторам, там будет обсуждаться и обращение с топливом. Это важное и нужное событие — можно будет обозначить направления, привлечь людей, но как технарь я от него ничего интересного не жду. Технические изюминки весь мир обсуждает на конференции «Атланта». Она проходит раз в четыре года — в чем ее огромное преимущество — и на ней рассматриваются конкретные химико-технологические вопросы, много интересной информации. Последняя «Атланта» прошла в 2016 году.
Постороннему человеку может показаться, что раз в четыре года — это слишком редко. Но если проводить такие мероприятия ежегодно, на них не будет ничего нового. Радиохимический мирок довольно тесен, все фамилии на слуху. Существуют социальные сети (мне больше всего нравится ResearchGate), где сразу же появляются публикации и российских, и зарубежных коллег, — так что все более или менее в курсе последних новостей. На конференциях звучат программные, стратегические доклады — но редко кто меняет стратегию раз в год, иначе какая это стратегия? Озвучиваются новые технические решения. Наверное, идеями можно обмениваться и каждый год. Но за четыре года идея или будет воплощена в жизнь, или от нее откажутся — и об этом расскажут.
Пример конференции «Глобал», которая проходит раз в два года, показывает, что нет смысла проводить такие мероприятия чаще: бессмысленно тратить время на то, чтобы услышать одну-две свежие мысли, разумнее просто прочитать итоговые материалы. А вот раз в четыре года посмотреть на все в комплексе — это не очень затратно, и получается представительная конференция с большим количеством специалистов.
Сейчас многие говорят о том, что грядет четвертая промышленная революция, меняется технологический уклад. Чего я жду от ближайшего будущего в области радиохимии? Действительно, что-то такое витает в воздухе. Напрашивается изменение подходов, изменение мышления. Мы, ставя во главу угла безопасность, традиционно закладываем в технологии «дубовые» процессы.
Один из руководителей комбинатов мне говорил примерно так: «Технология — это когда 2 января пришел, рубильник дернул, и до 31 декабря молотит, а ты даже не вмешиваешься в процесс. А ты что предлагаешь, вентиля крутить каждые два часа?» Этот подход понятен, я его не осуждаю — сам действовал так же, и безопасность, конечно, должна быть превыше всего. Но все-таки назрел переход на другой уровень.
Мне кажется, теперь задачу надо формулировать по-другому: не обеспечить безопасность любой ценой, а выбирать процессы, требующие тонкого контроля и управления, но так, чтобы сбой и отклонение приводили не к аварии, а лишь к нарушению технологического процесса. Пусть мы получим бракованный продукт, бог с ним. Если нет аварии, это допустимо.
Зачем нужны все эти новшества? Объясню на примере гаек и водопроводных ключей. Раньше у нас был один ключ, который точно, надежно, гарантированно работал. Пусть он большой, но мы ставим на все соединения именно эти гайки. Сейчас мы имеем возможность получить инструменты под разные гаечки, но пока продолжаем ставить большие, старые. Или другой пример: современный истребитель без компьютера не летает, при этом безопасность — на высшем уровне. То есть получается качественный, абсолютно надежный продукт, где все делается машиной и программами — вот то направление, куда радиохимическим технологиям надо двигаться.
Журнал «Атомная энергия». Достоинства и недостатки современных научных журналов
С журналом «Атомная энергия» я начал сотрудничать не очень давно, около десяти лет назад — примерно в то время, когда стал заниматься не отдельными операциями по переработке топлива, а проектом опытно-демонстрационного центра на Горно-химическом комбинате для переработки ОЯТ ВВЭР‑1000.
До этого я печатался в основном в журнале «Радиохимия» — это и сейчас мой любимый журнал; тематика «Атомной энергии» все же существенно шире.
Но после того как я перешел из Радиевого института во ВНИИНМ и стал участвовать в новой технологической платформе — ФЦП «Энерготехнологии нового поколения» — круг моих интересов расширился. Активное сотрудничество с журналом началось с 2011−2012 годов. Сейчас там публикуется довольно много статей, в которых я как минимум соавтор.
Сам журнал, на мой взгляд, достаточно интересный и широкий. В нем можно найти статьи, посвященные и физике, и радиохимии — последних, конечно, существенно меньше, порядка 20−30%. Однако особая ценность журнала для нас в том, что тут представлены другие взгляды и подходы — не те, которые приняты у химиков-исследователей или у химиков-технологов.
Мне кажется, что научные журналы немного отстали от жизни. Например, ни у «Атомной энергии», ни у «Радиохимии» нет своих сайтов. Это неудобно и для пользователей, и для авторов — невозможно подать статью онлайн, и, главное, нет площадки для дискуссий. Жаль, что для читателя остается неизвестной переписка редакции с авторами: иногда случаются довольно жесткие, но интересные технические обсуждения.
Что же получается? Конференции, как правило, парадные — все технические обсуждения проходят в кулуарах: там можно попытаться поспорить, а на самом докладе это редкость, разве что на стендовых докладах бывают дискуссии. Журнальная статья — это, как правило, изложение только одной позиции. Во всех научных журналах, в том числе и мировых, такая рубрика, как «Письма в редакцию», почти умерла. Письмом в редакцию сейчас называется просто интересная небольшая статья, а дискуссий по техническим вопросам нет.
На сайтах, которые так или иначе связаны с атомной энергией — самый известный, наверное, proatom, — ведутся обсуждения, но касаются они не технических вопросов, а скорее сплетен. Есть еще сайт researchgate — в его работе участвуют мои знакомые, те, кто уже достиг пенсионного возраста, большинство — иностранцы. Они пытаются завязывать технические дискуссии.
Научным журналам необходима подобная дискуссионная площадка. Как ее организовать, я не знаю. Если просто завести форум — это не будет работать, но решать этот вопрос нужно. Конечно, этот ресурс обязательно должен быть русскоязычным. У меня неплохой английский, я свободно могу прочитать на нем лекцию, но вступать в переписку на английском мне не хочется: придется проверять правописание и грамматику, чтобы быть уверенным, что четко донес мысль, — а на это уйдет много времени.
Главная роль журнала, как мне кажется, — возможность получения точной технической информации. Например, на конференции рассказывают о добавлении нового химического соединения и называют его «модификатор». Никакой конкретики. Ни один приличный журнал публикацию с такой формулировкой не примет — сразу же встанет вопрос о патенте и коммерческой тайне. Зато, когда появится статья в журнале, она будет информативна и конкретна.
Еще есть любопытная технология — плазменная сепарация. Это единственная известная мне технология, которая реально гарантирует неразделение урана и плутония. Во всех остальных случаях процесс можно изменить так, чтобы выделить чистый плутоний, хотя существует технологическая защита и выделение будет дорогим и неэффективным.
С другой стороны, пока непонятно, сколько лет понадобится для развития этой перспективной технологии. В США была программа «Архимед», нацеленная на обращение с радиоактивными отходами, но там был исследован далеко не весь перечень элементов, которые появляются в ОЯТ. Насколько я знаю, в России эксперименты по плазменной сепарации проводились пока даже без урана. Валентин Пантелеймонович Смирнов активно занимается этими вопросами, у него создана установка, и если его работы будут продолжать финансироваться, то года через два можно будет оценить промежуточные результаты.
Об итогах 2016 года и ожиданиях от 2017-го.
Я рад, что 2016-й закончился: он был очень непростым для нашего направления, мы понесли большие человеческие потери. Не стало нескольких выдающихся специалистов: Валентина Борисовича Иванова, Олега Владимировича Скибы. Александр Глебович Масленников умер неожиданно, в разгаре творческого процесса. С технической точки зрения, все, что могли, мы выполнили, но потеряли замечательных людей.
В будущем году (лекция записывалась в декабре 2016 года. — Прим. ред.) в Екатеринбурге пройдет крупная конференция по быстрым реакторам, там будет обсуждаться и обращение с топливом. Это важное и нужное событие — можно будет обозначить направления, привлечь людей, но как технарь я от него ничего интересного не жду. Технические изюминки весь мир обсуждает на конференции «Атланта». Она проходит раз в четыре года — в чем ее огромное преимущество — и на ней рассматриваются конкретные химико-технологические вопросы, много интересной информации. Последняя «Атланта» прошла в 2016 году.
Постороннему человеку может показаться, что раз в четыре года — это слишком редко. Но если проводить такие мероприятия ежегодно, на них не будет ничего нового. Радиохимический мирок довольно тесен, все фамилии на слуху. Существуют социальные сети (мне больше всего нравится ResearchGate), где сразу же появляются публикации и российских, и зарубежных коллег, — так что все более или менее в курсе последних новостей. На конференциях звучат программные, стратегические доклады — но редко кто меняет стратегию раз в год, иначе какая это стратегия? Озвучиваются новые технические решения. Наверное, идеями можно обмениваться и каждый год. Но за четыре года идея или будет воплощена в жизнь, или от нее откажутся — и об этом расскажут.
Пример конференции «Глобал», которая проходит раз в два года, показывает, что нет смысла проводить такие мероприятия чаще: бессмысленно тратить время на то, чтобы услышать одну-две свежие мысли, разумнее просто прочитать итоговые материалы. А вот раз в четыре года посмотреть на все в комплексе — это не очень затратно, и получается представительная конференция с большим количеством специалистов.
Сейчас многие говорят о том, что грядет четвертая промышленная революция, меняется технологический уклад. Чего я жду от ближайшего будущего в области радиохимии? Действительно, что-то такое витает в воздухе. Напрашивается изменение подходов, изменение мышления. Мы, ставя во главу угла безопасность, традиционно закладываем в технологии «дубовые» процессы.
Один из руководителей комбинатов мне говорил примерно так: «Технология — это когда 2 января пришел, рубильник дернул, и до 31 декабря молотит, а ты даже не вмешиваешься в процесс. А ты что предлагаешь, вентиля крутить каждые два часа?» Этот подход понятен, я его не осуждаю — сам действовал так же, и безопасность, конечно, должна быть превыше всего. Но все-таки назрел переход на другой уровень.
Мне кажется, теперь задачу надо формулировать по-другому: не обеспечить безопасность любой ценой, а выбирать процессы, требующие тонкого контроля и управления, но так, чтобы сбой и отклонение приводили не к аварии, а лишь к нарушению технологического процесса. Пусть мы получим бракованный продукт, бог с ним. Если нет аварии, это допустимо.
Зачем нужны все эти новшества? Объясню на примере гаек и водопроводных ключей. Раньше у нас был один ключ, который точно, надежно, гарантированно работал. Пусть он большой, но мы ставим на все соединения именно эти гайки. Сейчас мы имеем возможность получить инструменты под разные гаечки, но пока продолжаем ставить большие, старые. Или другой пример: современный истребитель без компьютера не летает, при этом безопасность — на высшем уровне. То есть получается качественный, абсолютно надежный продукт, где все делается машиной и программами — вот то направление, куда радиохимическим технологиям надо двигаться.
Журнал «Атомная энергия». Достоинства и недостатки современных научных журналов
С журналом «Атомная энергия» я начал сотрудничать не очень давно, около десяти лет назад — примерно в то время, когда стал заниматься не отдельными операциями по переработке топлива, а проектом опытно-демонстрационного центра на Горно-химическом комбинате для переработки ОЯТ ВВЭР‑1000.
До этого я печатался в основном в журнале «Радиохимия» — это и сейчас мой любимый журнал; тематика «Атомной энергии» все же существенно шире.
Но после того как я перешел из Радиевого института во ВНИИНМ и стал участвовать в новой технологической платформе — ФЦП «Энерготехнологии нового поколения» — круг моих интересов расширился. Активное сотрудничество с журналом началось с 2011−2012 годов. Сейчас там публикуется довольно много статей, в которых я как минимум соавтор.
Сам журнал, на мой взгляд, достаточно интересный и широкий. В нем можно найти статьи, посвященные и физике, и радиохимии — последних, конечно, существенно меньше, порядка 20−30%. Однако особая ценность журнала для нас в том, что тут представлены другие взгляды и подходы — не те, которые приняты у химиков-исследователей или у химиков-технологов.
Мне кажется, что научные журналы немного отстали от жизни. Например, ни у «Атомной энергии», ни у «Радиохимии» нет своих сайтов. Это неудобно и для пользователей, и для авторов — невозможно подать статью онлайн, и, главное, нет площадки для дискуссий. Жаль, что для читателя остается неизвестной переписка редакции с авторами: иногда случаются довольно жесткие, но интересные технические обсуждения.
Что же получается? Конференции, как правило, парадные — все технические обсуждения проходят в кулуарах: там можно попытаться поспорить, а на самом докладе это редкость, разве что на стендовых докладах бывают дискуссии. Журнальная статья — это, как правило, изложение только одной позиции. Во всех научных журналах, в том числе и мировых, такая рубрика, как «Письма в редакцию», почти умерла. Письмом в редакцию сейчас называется просто интересная небольшая статья, а дискуссий по техническим вопросам нет.
На сайтах, которые так или иначе связаны с атомной энергией — самый известный, наверное, proatom, — ведутся обсуждения, но касаются они не технических вопросов, а скорее сплетен. Есть еще сайт researchgate — в его работе участвуют мои знакомые, те, кто уже достиг пенсионного возраста, большинство — иностранцы. Они пытаются завязывать технические дискуссии.
Научным журналам необходима подобная дискуссионная площадка. Как ее организовать, я не знаю. Если просто завести форум — это не будет работать, но решать этот вопрос нужно. Конечно, этот ресурс обязательно должен быть русскоязычным. У меня неплохой английский, я свободно могу прочитать на нем лекцию, но вступать в переписку на английском мне не хочется: придется проверять правописание и грамматику, чтобы быть уверенным, что четко донес мысль, — а на это уйдет много времени.
Главная роль журнала, как мне кажется, — возможность получения точной технической информации. Например, на конференции рассказывают о добавлении нового химического соединения и называют его «модификатор». Никакой конкретики. Ни один приличный журнал публикацию с такой формулировкой не примет — сразу же встанет вопрос о патенте и коммерческой тайне. Зато, когда появится статья в журнале, она будет информативна и конкретна.
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ НОМЕРА
